|25-26 апреля XXII Международная научно-практическая конференция "Качество и конкурентоспособность в XXI веке"|
|25-26 апреля XXII Международная научно-практическая конференция "Качество и конкурентоспособность в XXI веке"|
Ваша история
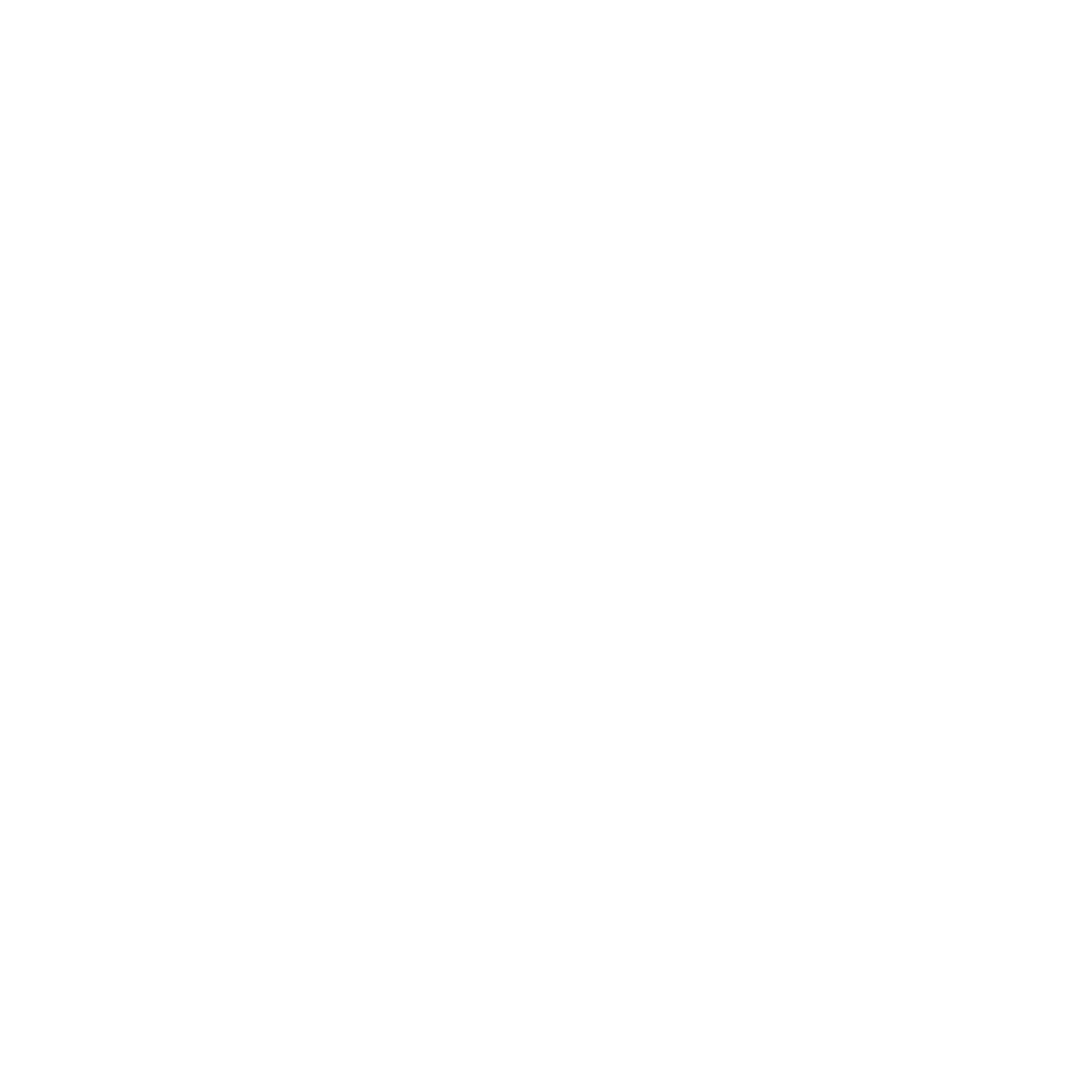
«Мой прадедушка – Козлов Василий Фёдорович, родился 7 января 1908 г. в селе Исаково Красноармейского района Чувашской Республики. 29 июля 1941 г. был призван в ряды Красной армии и был зачислен в 252 стрелковую дивизию. Прадед попал в Карело-Финскую республику, где в 1941 году часть республики была оккупирована немецкими войсками.
В марте 1942 года был тяжело ранен и лечился в госпитале г. Канск. Был стрелком-автоматчиком. В июле 1942 года мой прадед был демобилизирован из-за тяжелого ранения.
Вернувшись, работал председателем колхоза «Правда».
С прабабушкой воспитали 9 детей.
Память о прадедушке живёт в сердцах его детей, внуков и правнуков. Мы не имеем права его забыть, потому что его жизнь – это пример чистого служения своему отечеству!»
Анастасия Юрьевна – председатель ППО обучающихся ЧГУ
В марте 1942 года был тяжело ранен и лечился в госпитале г. Канск. Был стрелком-автоматчиком. В июле 1942 года мой прадед был демобилизирован из-за тяжелого ранения.
Вернувшись, работал председателем колхоза «Правда».
С прабабушкой воспитали 9 детей.
Память о прадедушке живёт в сердцах его детей, внуков и правнуков. Мы не имеем права его забыть, потому что его жизнь – это пример чистого служения своему отечеству!»
Анастасия Юрьевна – председатель ППО обучающихся ЧГУ
Мой прадед Федор Сергеевич Фролов был призван на войну в августе 1941 года. В составе 3 Белорусского фронта участвовал в сражениях под Москвой, прошел путь от рядового до старшего сержанта. С фронта писал письма своей семье - жене Александре и детям Анатолию и Анне. До сих пор в нашей семье хранится письмо и вырезка из газеты о его подвиге – статья «Мастер прямой наводки» о его героическом поступке при защите
Москвы, когда он во время боя сменил 3 орудия и, раненый в голову, продолжал уничтожать врага.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден медалью «За отвагу» и Орденом Славы IIIстепени.
Боевой путь Федора Сергеевича закончился под Кенигсбергом 14 февраля 1945 года. Его похоронили в братской могиле в п. Корнево.
Наталья Юрьевна Яшина – руководитель Управления коммуникаций
ЧувГУ
Москвы, когда он во время боя сменил 3 орудия и, раненый в голову, продолжал уничтожать врага.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден медалью «За отвагу» и Орденом Славы IIIстепени.
Боевой путь Федора Сергеевича закончился под Кенигсбергом 14 февраля 1945 года. Его похоронили в братской могиле в п. Корнево.
Наталья Юрьевна Яшина – руководитель Управления коммуникаций
ЧувГУ
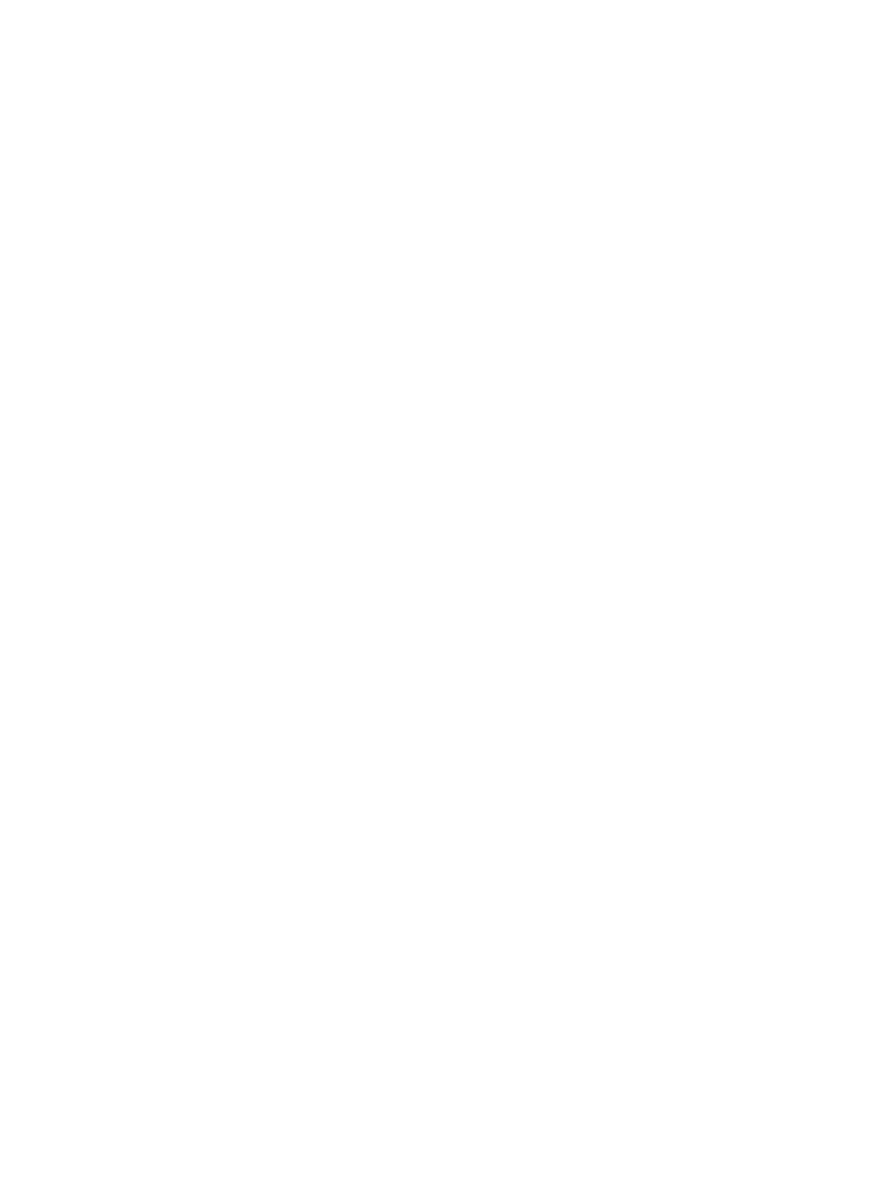
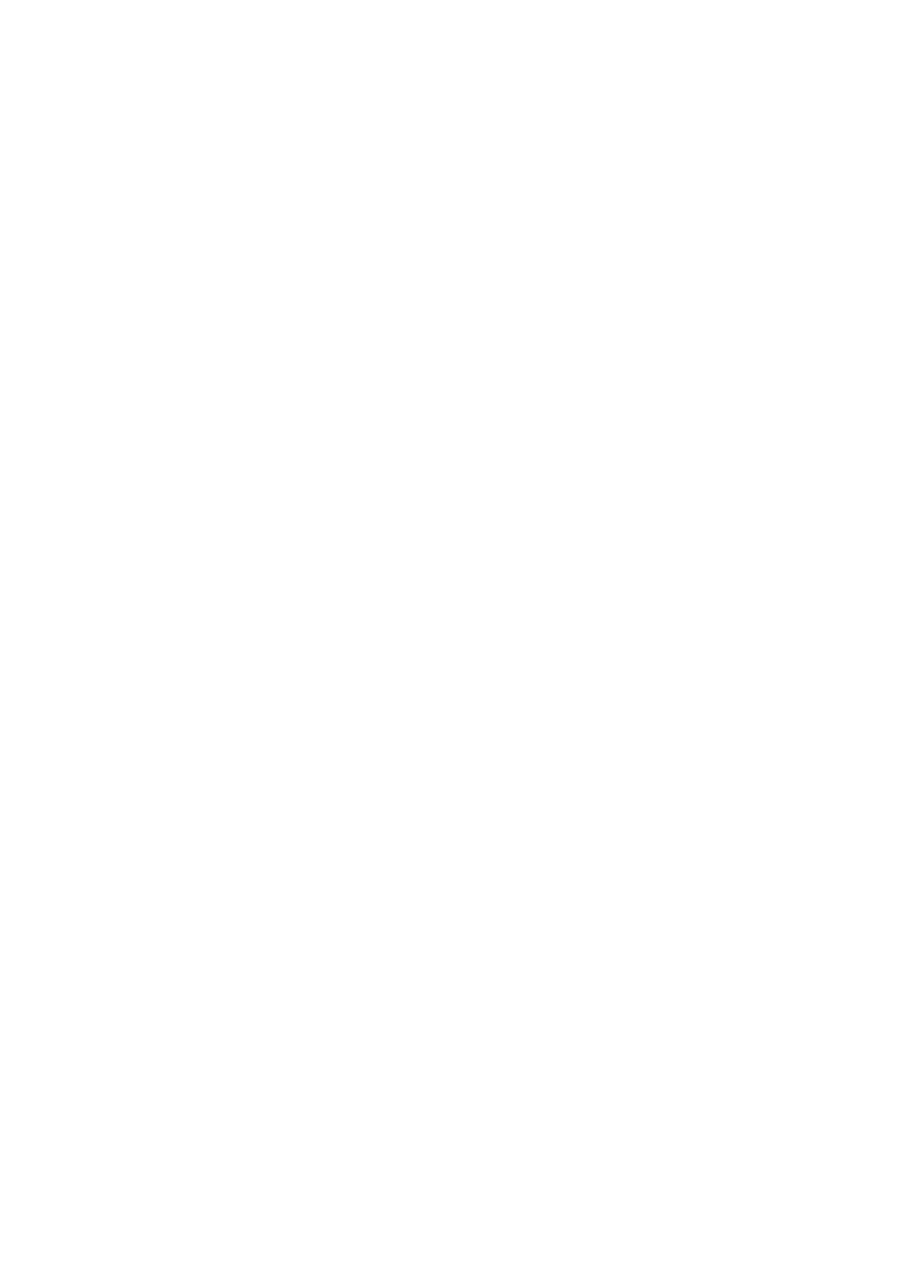
Мой прадедушка родился в Кировской области. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 23 года. Он был помощником командира взвода пешей разведки, командиром отделения 1 стрелковой роты 71 Гвардейского стрелкового Краснознаменного полка.
Будучи в составе разведроты в боях с немецкими захватчиками в составе группы разведчиков пробрался в оборону противника. Презирая опасностью для жизни, он по-пластунски подкрался к часовому и обезоружил его, тем самым дав возможность группе захвата взять «языка».
За свои подвиги был награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За Отвагу»!
После войны вернулся в Йошкар-Олу, создал семью и продолжал работать на заводе. Позже был награжден медалями «За доблестный труд», «В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооружённых сил СССР», «Ветеран труда», «Знаком почёта».
Суслова Татьяна – специалист Управления коммуникаций ЧувГУ
Будучи в составе разведроты в боях с немецкими захватчиками в составе группы разведчиков пробрался в оборону противника. Презирая опасностью для жизни, он по-пластунски подкрался к часовому и обезоружил его, тем самым дав возможность группе захвата взять «языка».
За свои подвиги был награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За Отвагу»!
После войны вернулся в Йошкар-Олу, создал семью и продолжал работать на заводе. Позже был награжден медалями «За доблестный труд», «В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооружённых сил СССР», «Ветеран труда», «Знаком почёта».
Суслова Татьяна – специалист Управления коммуникаций ЧувГУ
Мой прадед, Емельянов Андрей Иванович, родился в 1903 году. Он является участником Великой Отечественной войны, инвалид II группы. Вернулся после войны в августе 1945 года без правой ноги. Это случилось при взятии г. Кёнигсберга (ныне г. Калининград.).
Прадед служил в одной из частей, был командиром отделения в подразделении. В его подчинении было 12 солдат. Один из солдат отпросился сходить по нужде. Прадед дал ему разрешение, но он обратно не вернулся, впоследствии скрывался, т.е. дезертировал. А прадеда из-за этого наказали, определили в штрафной батальон и направили на передовую.
Из рассказов прадедушки, «в бой шли на танках, далее выпрыгивали с танков и шли на крик «Ура!» против немцев».
Это случилось 25 февраля 1945 года. При взятии г. Кенигсберга очень много людей погибло. Он рассказывал, что поле было покрыто трупами солдат. Мой прадед находился в это время от леса на не большом расстоянии. Встал и начал бежать в сторону леса, но не добежал 5-6м., ногу ранило осколком и подвернуло на 180°. Носочки смотрели назад. Ногу жгло, тогда он достал складной нож, распорол брюки и подложил снег, чтобы как-то обезболить ее. Пролежав сутки на снегу, увидел, что подошла собака, у которой на шее висела палка на верёвке. Она взяла палочку в зубы и убежала. А в ночь пришли 2 санитарки с этой собакой и унесли его в санчасть. В санчасти ногу пришлось ампутировать, далее лечился в госпитале. Домой вернулся только в августе 1945 года. После войны работал в колхозе кассиром.
Из воспоминаний прадеда:
Случай в г. Ржеве. Попали в плен к немцам. Пленными партизанами и местными жителями были набиты сараи, амбары и церкви. Я попал в церковь. Это было ночью. Я и еще один солдат, как-то умудрились подняться на купол церкви, выпрыгнули с высоты и сразу бежать. Немцы стреляли по нам. Мы вдвоём по шее сидели в болоте, пока немцы от нас не отстали. Немцы сожгли 30 тысяч человек в г. Ржеве, запертых в церкви.
Он всегда, когда рассказывал, плакал. В слезах говорил: «я родился 3 раза в жизни. Первый раз - мать родила. Второй - после двух суток проснулся от летаргического сна в 13 лет. Третий - когда сбежал с плена».
Краснов Евгений Вячеславович – ассистент кафедры теплоэнергетических установок
Прадед служил в одной из частей, был командиром отделения в подразделении. В его подчинении было 12 солдат. Один из солдат отпросился сходить по нужде. Прадед дал ему разрешение, но он обратно не вернулся, впоследствии скрывался, т.е. дезертировал. А прадеда из-за этого наказали, определили в штрафной батальон и направили на передовую.
Из рассказов прадедушки, «в бой шли на танках, далее выпрыгивали с танков и шли на крик «Ура!» против немцев».
Это случилось 25 февраля 1945 года. При взятии г. Кенигсберга очень много людей погибло. Он рассказывал, что поле было покрыто трупами солдат. Мой прадед находился в это время от леса на не большом расстоянии. Встал и начал бежать в сторону леса, но не добежал 5-6м., ногу ранило осколком и подвернуло на 180°. Носочки смотрели назад. Ногу жгло, тогда он достал складной нож, распорол брюки и подложил снег, чтобы как-то обезболить ее. Пролежав сутки на снегу, увидел, что подошла собака, у которой на шее висела палка на верёвке. Она взяла палочку в зубы и убежала. А в ночь пришли 2 санитарки с этой собакой и унесли его в санчасть. В санчасти ногу пришлось ампутировать, далее лечился в госпитале. Домой вернулся только в августе 1945 года. После войны работал в колхозе кассиром.
Из воспоминаний прадеда:
Случай в г. Ржеве. Попали в плен к немцам. Пленными партизанами и местными жителями были набиты сараи, амбары и церкви. Я попал в церковь. Это было ночью. Я и еще один солдат, как-то умудрились подняться на купол церкви, выпрыгнули с высоты и сразу бежать. Немцы стреляли по нам. Мы вдвоём по шее сидели в болоте, пока немцы от нас не отстали. Немцы сожгли 30 тысяч человек в г. Ржеве, запертых в церкви.
Он всегда, когда рассказывал, плакал. В слезах говорил: «я родился 3 раза в жизни. Первый раз - мать родила. Второй - после двух суток проснулся от летаргического сна в 13 лет. Третий - когда сбежал с плена».
Краснов Евгений Вячеславович – ассистент кафедры теплоэнергетических установок
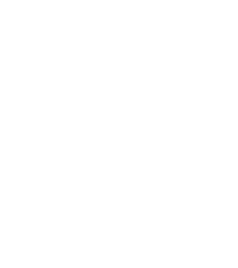
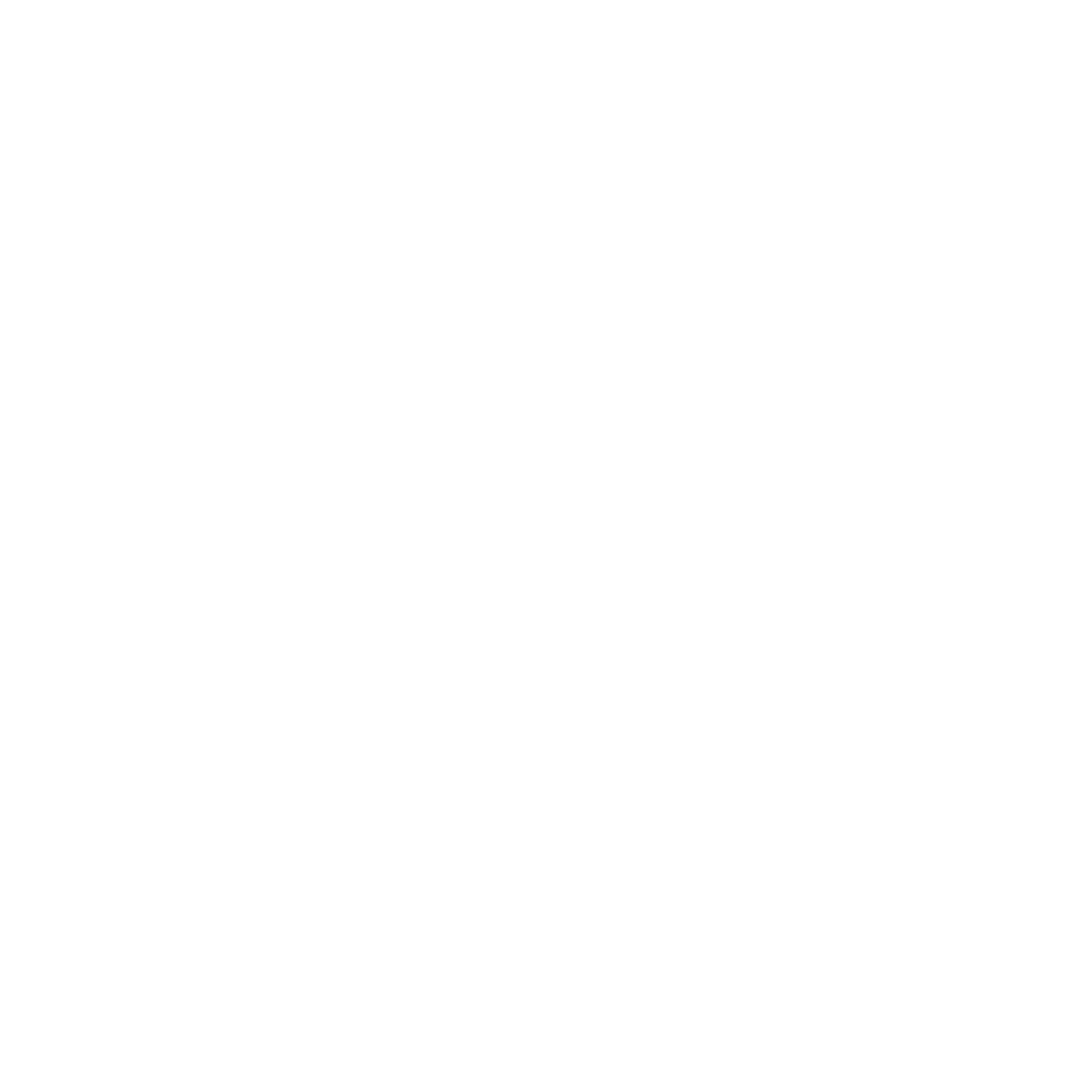
Мой прадедушка, Табаков Павел Васильевич родился 23 марта 1924 года в деревне Низовка Порецкого района Чувашской республики. В 1942 году был призван на фронт.
Павел Васильевич служил в пехоте, имел звание красноармейца. Его боевой путь начинался в Харьковской области в составе 33 танковой бригады. В 1943 году за боевые заслуги ее переформировали в 57 гвардейскую танковую бригаду, в составе которой Павел Васильевич участвовал в боевых действиях на реке Днепр, в местечке Новые Журавчики. Прадед брал немцев в плен. В 1944 году Под Кёнигсбергом получил ранение и был отправлен в госпиталь, после чего пребывал в учебной части. Был награжден орденом Отечественной Войны 1 степени и орденом Славы 3 степени.
После окончания войны он отправился домой с ранением ноги. На родине его ждала моя прабабушка - Татьяна Ивановна, которая работала в тылу. Вместе они воспитали пятерых детей.
Умер Павел Васильевич 19 марта 1992 года, не дожив несколько дней до своего 68-летия.
Маша Пиняева
Павел Васильевич служил в пехоте, имел звание красноармейца. Его боевой путь начинался в Харьковской области в составе 33 танковой бригады. В 1943 году за боевые заслуги ее переформировали в 57 гвардейскую танковую бригаду, в составе которой Павел Васильевич участвовал в боевых действиях на реке Днепр, в местечке Новые Журавчики. Прадед брал немцев в плен. В 1944 году Под Кёнигсбергом получил ранение и был отправлен в госпиталь, после чего пребывал в учебной части. Был награжден орденом Отечественной Войны 1 степени и орденом Славы 3 степени.
После окончания войны он отправился домой с ранением ноги. На родине его ждала моя прабабушка - Татьяна Ивановна, которая работала в тылу. Вместе они воспитали пятерых детей.
Умер Павел Васильевич 19 марта 1992 года, не дожив несколько дней до своего 68-летия.
Маша Пиняева
Когда 22 июня 1941 года на нашу страну вероломно напали фашисты, весь советский народ встал на защиту Родины. Не остались в стороне и мои предки: два деда и бабушка отправились на фронт. Дед Иванов Алексей Иванович был разведчиком, сражался на Ленинградском фронте. Дед Михайлов Зиновий Михайлович был танкистом, бабушка Михайлова Римма Порфирьевна – связисткой. Больше всего хочу поделиться историей бабушки.
Бабушка Римма Порфирьевна, которой было всего 21 год, добровольно ушла на фронт защищать блокадный Ленинград. Ее отец, мой прадедушка уже воевал, а некоторое время спустя на войну ушел и ее младший брат. Дома осталась только больная мама, моя прабабушка.
В Северной столице нашей страны люди погибали от голода. Пережила эти страшные тяготы и бабушка. Она не любила рассказывать про войну и плакала, когда мы начинали расспрашивать.
Но в конце жизни бабушка все-таки поделилась, в каких условиях они воевали. «Мы вставали рано утром. Частенько нечего было есть, поэтому мы выпивали кипяток и шли выполнять свои обязанности. Это была очень ответственная работа: мы обеспечивали связь нашей армии. Для этого протягивали провода в лесах, полях, болотах в любую погоду: и в зной и в мороз, и в дождь. Связисты находятся на передовой, поэтому они часто гибли на войне. Было очень страшно и трудно. До сих пор не знаю, как я сумела выжить», - рассказала она.
Бабушка вернулась домой в звании ефрейтора. Пока она была на войне, её мама умерла. Прадед вернулся раньше нее, так как потерял в бою ногу, младшему брату бабушки тоже посчастливилось остаться в живых. Им пришлось заново учиться жить в мирное время.
Бабушка Римма Порфирьевна прожила долгую жизнь, до 96 лет. Мы часто ее навещали. У нас стало традицией ехать к ней в гости на День Победы, 9-го мая. Она всегда ждала нас с угощеньем.
Олеся Герасимова, главный редактор газеты "Ульяновец"
Бабушка Римма Порфирьевна, которой было всего 21 год, добровольно ушла на фронт защищать блокадный Ленинград. Ее отец, мой прадедушка уже воевал, а некоторое время спустя на войну ушел и ее младший брат. Дома осталась только больная мама, моя прабабушка.
В Северной столице нашей страны люди погибали от голода. Пережила эти страшные тяготы и бабушка. Она не любила рассказывать про войну и плакала, когда мы начинали расспрашивать.
Но в конце жизни бабушка все-таки поделилась, в каких условиях они воевали. «Мы вставали рано утром. Частенько нечего было есть, поэтому мы выпивали кипяток и шли выполнять свои обязанности. Это была очень ответственная работа: мы обеспечивали связь нашей армии. Для этого протягивали провода в лесах, полях, болотах в любую погоду: и в зной и в мороз, и в дождь. Связисты находятся на передовой, поэтому они часто гибли на войне. Было очень страшно и трудно. До сих пор не знаю, как я сумела выжить», - рассказала она.
Бабушка вернулась домой в звании ефрейтора. Пока она была на войне, её мама умерла. Прадед вернулся раньше нее, так как потерял в бою ногу, младшему брату бабушки тоже посчастливилось остаться в живых. Им пришлось заново учиться жить в мирное время.
Бабушка Римма Порфирьевна прожила долгую жизнь, до 96 лет. Мы часто ее навещали. У нас стало традицией ехать к ней в гости на День Победы, 9-го мая. Она всегда ждала нас с угощеньем.
Олеся Герасимова, главный редактор газеты "Ульяновец"
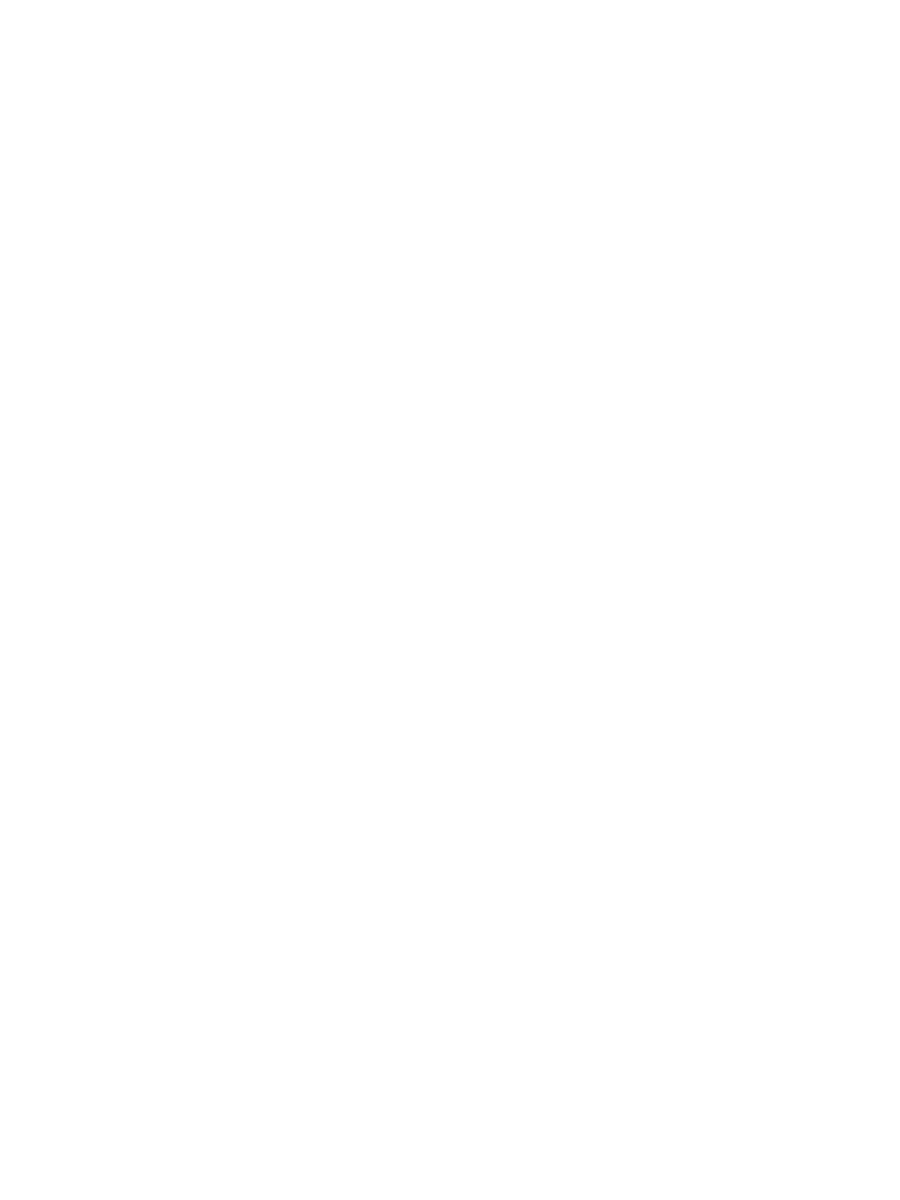
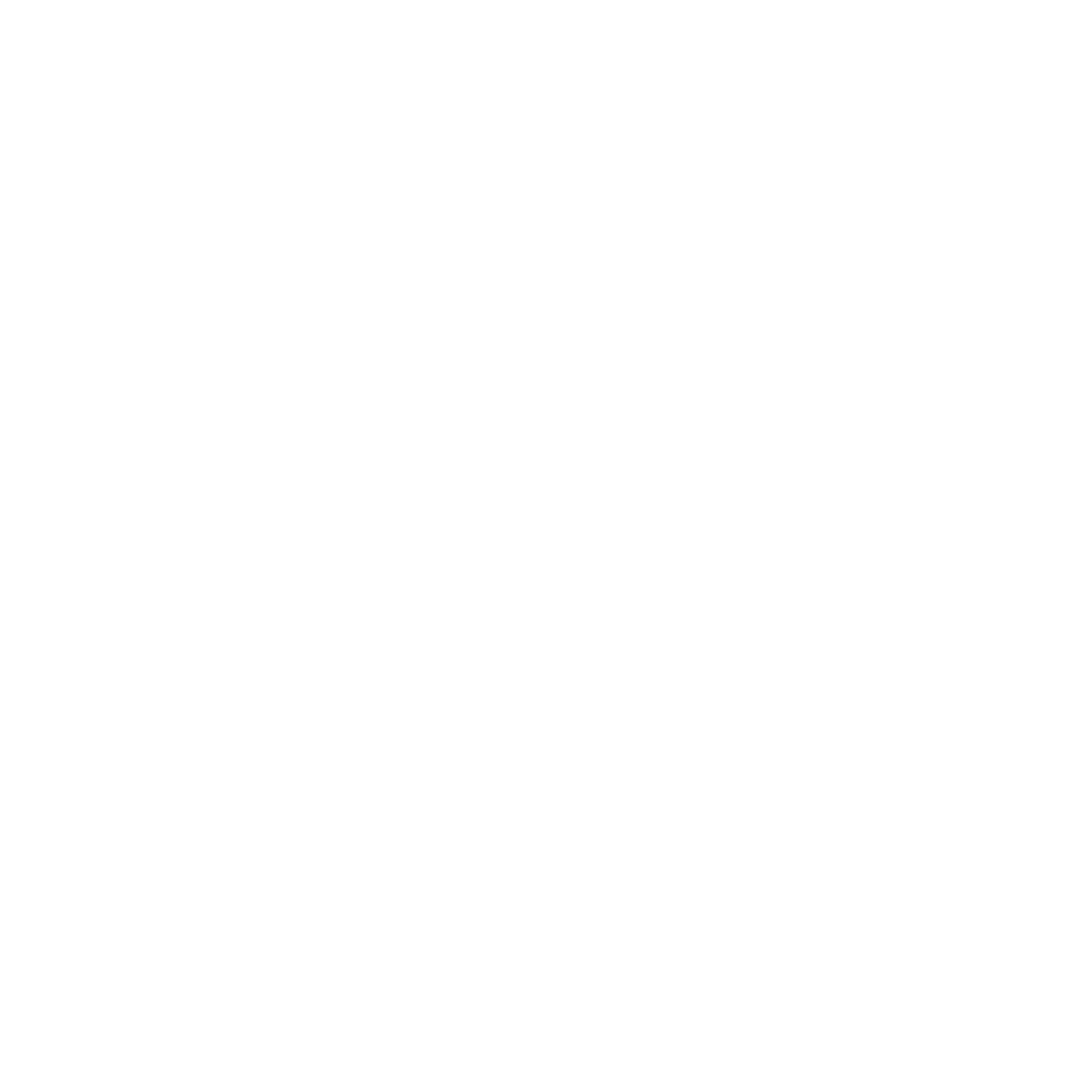
Мой прадедушка, Капитонов Василий Капитонович, родился в небольшом селе Турмыши в 1908 году. До войны он состоял в местной добровольной пожарной дружине. В 1942 году его, как и многих молодых людей того времени, призвали на службу. Он понимал, что на его плечах лежит ответственность не только за судьбы родных и близких, но и за будущее Родины.
В рядах Красной Армии прадедушку определили в военную разведку. Однако, как и многие, он не вернулся с войны. Долгое время наша семья не знала, что с ним произошло. Мы надеялись и ждали, но ответа так и не получили. Прадедушка пропал без вести, но память о нём живёт в наших сердцах.
Георгий Капитонов
В рядах Красной Армии прадедушку определили в военную разведку. Однако, как и многие, он не вернулся с войны. Долгое время наша семья не знала, что с ним произошло. Мы надеялись и ждали, но ответа так и не получили. Прадедушка пропал без вести, но память о нём живёт в наших сердцах.
Георгий Капитонов
Мой прадедушка - Атласкин Кузьма Родионович родился 14 октября 1941г. в деревне Хорной Моргаушского района Чувашской Республики. Он служил и воевал против фашисткой Германии на Ленинградском фронте в 35 отдельной бригаде. В феврале 1943 г. во время проводки связи со штабом батальона был тяжело ранен осколком артиллерийского снаряда в правое бедро и комиссован в июле 1943 г.
За участие в боевых действиях мой прадедушка награжден Орденом ВОВ 1 степени, получил Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и Медаль «За боевые заслуги».
Мой прадед был честным, трудолюбивым и уважаемым человеком. Они с прабабушкой вырастили троих детей. Кузьма Родионович ушёл из жизни в 1993 году, оставив после себя светлую память.
Аня Иванова
За участие в боевых действиях мой прадедушка награжден Орденом ВОВ 1 степени, получил Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и Медаль «За боевые заслуги».
Мой прадед был честным, трудолюбивым и уважаемым человеком. Они с прабабушкой вырастили троих детей. Кузьма Родионович ушёл из жизни в 1993 году, оставив после себя светлую память.
Аня Иванова
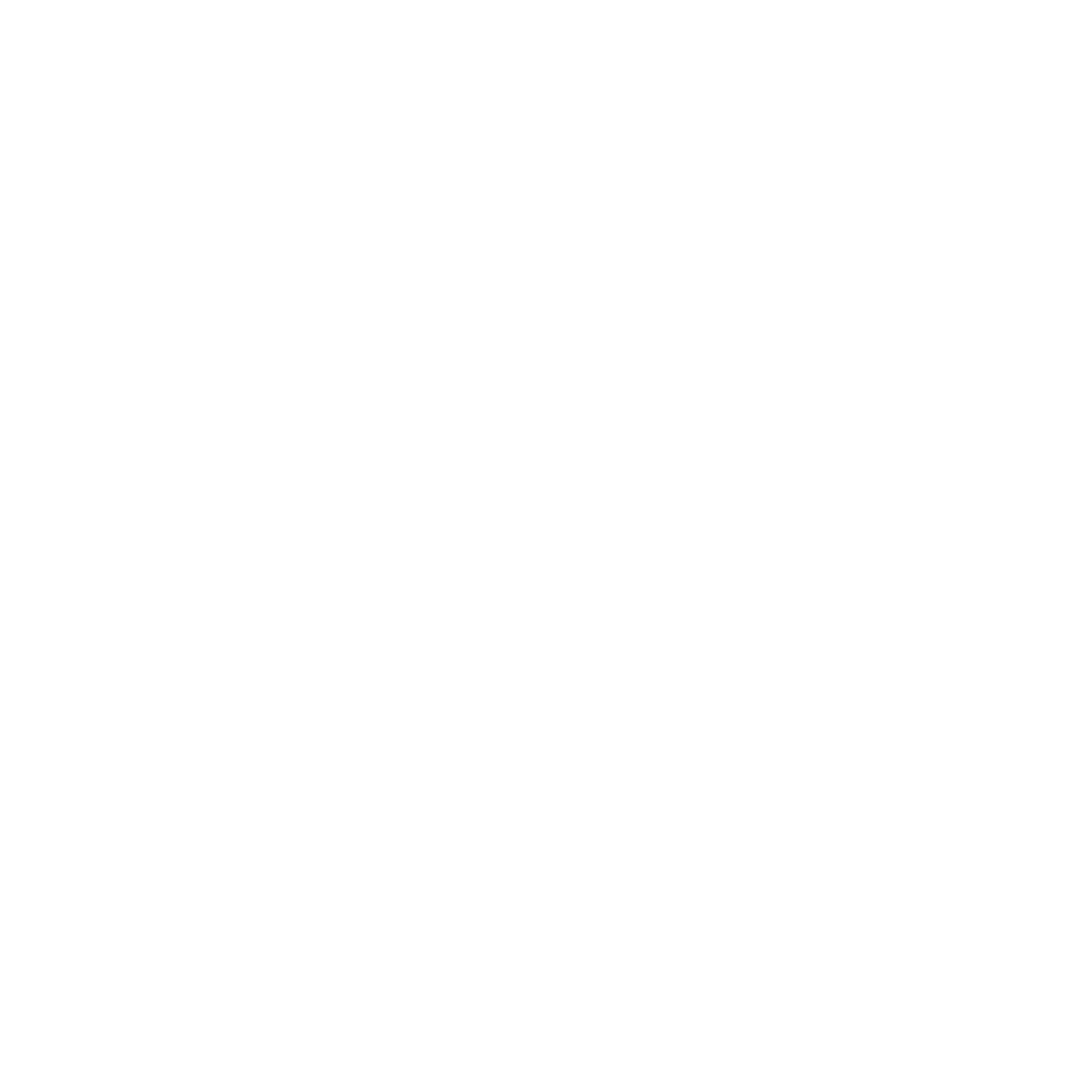
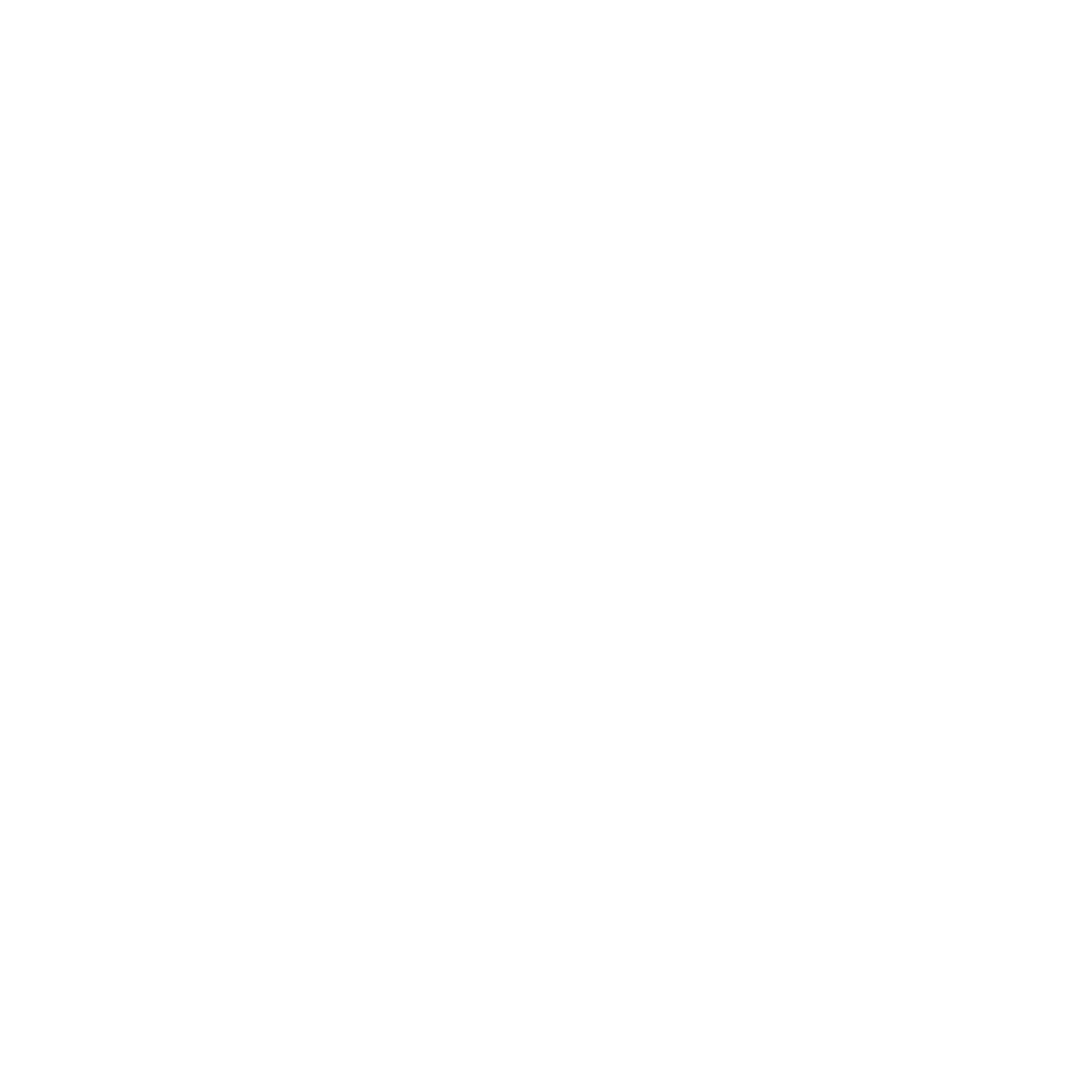
Одним из участников Великой Отечественной войны является мой прадед, Карсаков Михаил Трофимович.
Михаил Трофимович родился 30 августа 1910 года в деревне Новое Тинчурино Яльчикского района Чувашской АССР. На войну его призвали одним из самых первых в деревне – 7 августа 1941 года, тогда ему только исполнился 31 год. Обучался он военному делу в г. Арзамас, воинское звание – старший лейтенант.
Из г. Арзамаса прадед успел отправить одно единственное письмо прапрабабушке, Анне Тихоновне, которое хранится в нашей семье и по сей день. К сожалению, оно было первым и последним. Михаил Трофимович пропал без вести 4 октября 1941 года, ещё в самые первые месяцы войны. Прапрабабушка Анна Тихоновна получила похоронку, спустя несколько месяцев.
Никто не знает, где и как он погиб. Но я и вся наша семья точно знает, что он погиб, выполняя свой воинский долг. К сожалению, прадеда не суждено было встретить Победу.
Благодаря рассказам дедушки и бабушки, я знаю, что чистое небо над головой, яркое солнце – всё это благодаря и моему прадедушке Михаилу, который не вернулся с войны. Наша семья с гордостью хранит память о нем.
Ксения Тимофеева
Михаил Трофимович родился 30 августа 1910 года в деревне Новое Тинчурино Яльчикского района Чувашской АССР. На войну его призвали одним из самых первых в деревне – 7 августа 1941 года, тогда ему только исполнился 31 год. Обучался он военному делу в г. Арзамас, воинское звание – старший лейтенант.
Из г. Арзамаса прадед успел отправить одно единственное письмо прапрабабушке, Анне Тихоновне, которое хранится в нашей семье и по сей день. К сожалению, оно было первым и последним. Михаил Трофимович пропал без вести 4 октября 1941 года, ещё в самые первые месяцы войны. Прапрабабушка Анна Тихоновна получила похоронку, спустя несколько месяцев.
Никто не знает, где и как он погиб. Но я и вся наша семья точно знает, что он погиб, выполняя свой воинский долг. К сожалению, прадеда не суждено было встретить Победу.
Благодаря рассказам дедушки и бабушки, я знаю, что чистое небо над головой, яркое солнце – всё это благодаря и моему прадедушке Михаилу, который не вернулся с войны. Наша семья с гордостью хранит память о нем.
Ксения Тимофеева
Мой прадедушка, Зотиков Алексей Федорович, родился 28 марта 1925 г., г. Чебоксары. Был призван на фронт в 1943 году, ему тогда даже не исполнилось 18 лет
Служил в стрелковой дивизии и имел звание младшего сержанта, впоследствии за боевые заслуги стал сержантом. В 1944 году получил ранение в битве с немецким офицером, но продолжил двигаться дальше вместе со своей дивизией. Своим примером он воодушевлял бойцов своего подразделения к новым подвигам
Прадедушка прошел невероятно большой путь: участвовал в освобождении Варшавы и дошел до Берлина. Победу встретил в Берлине и вернулся домой
Диана Мясникова
Служил в стрелковой дивизии и имел звание младшего сержанта, впоследствии за боевые заслуги стал сержантом. В 1944 году получил ранение в битве с немецким офицером, но продолжил двигаться дальше вместе со своей дивизией. Своим примером он воодушевлял бойцов своего подразделения к новым подвигам
Прадедушка прошел невероятно большой путь: участвовал в освобождении Варшавы и дошел до Берлина. Победу встретил в Берлине и вернулся домой
Диана Мясникова
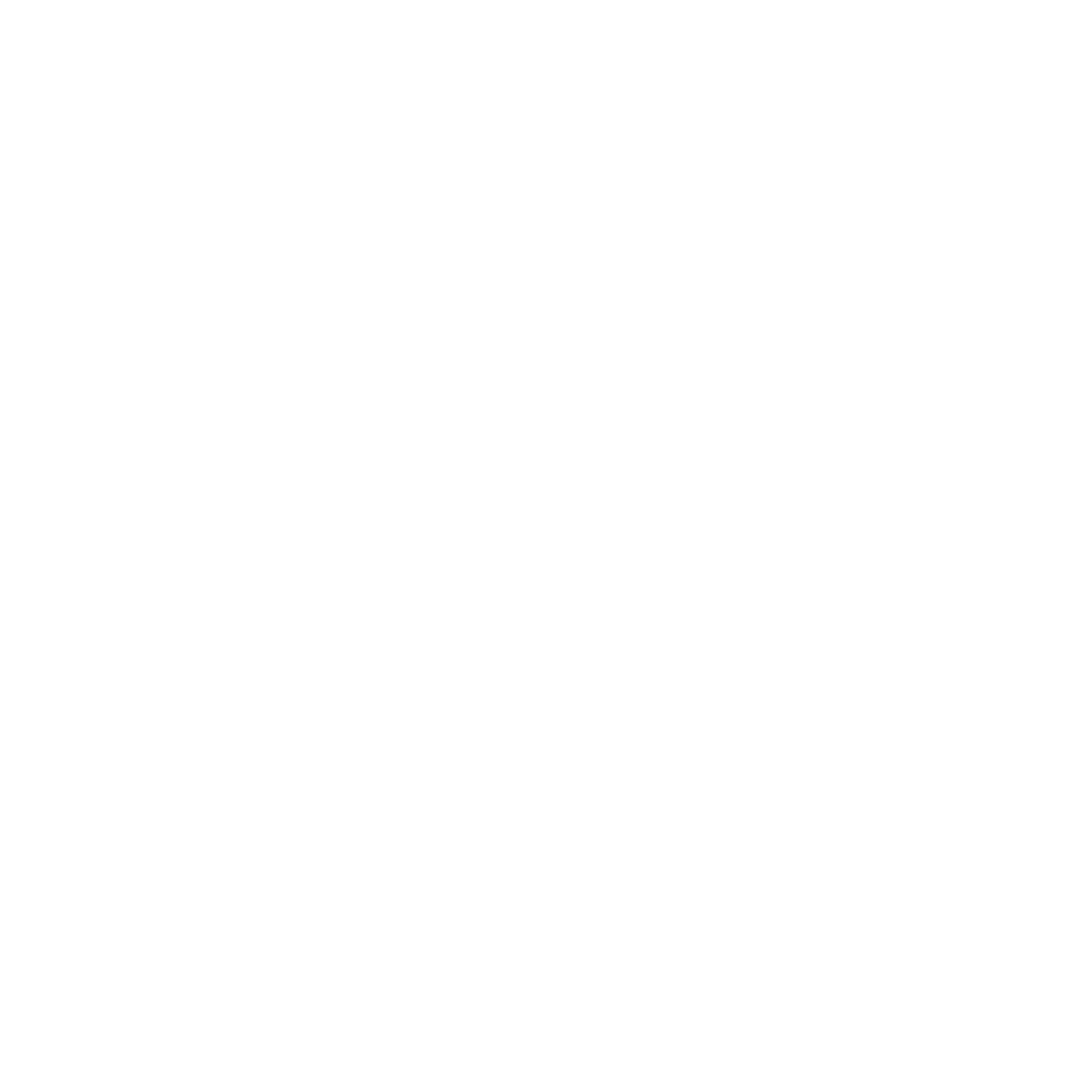
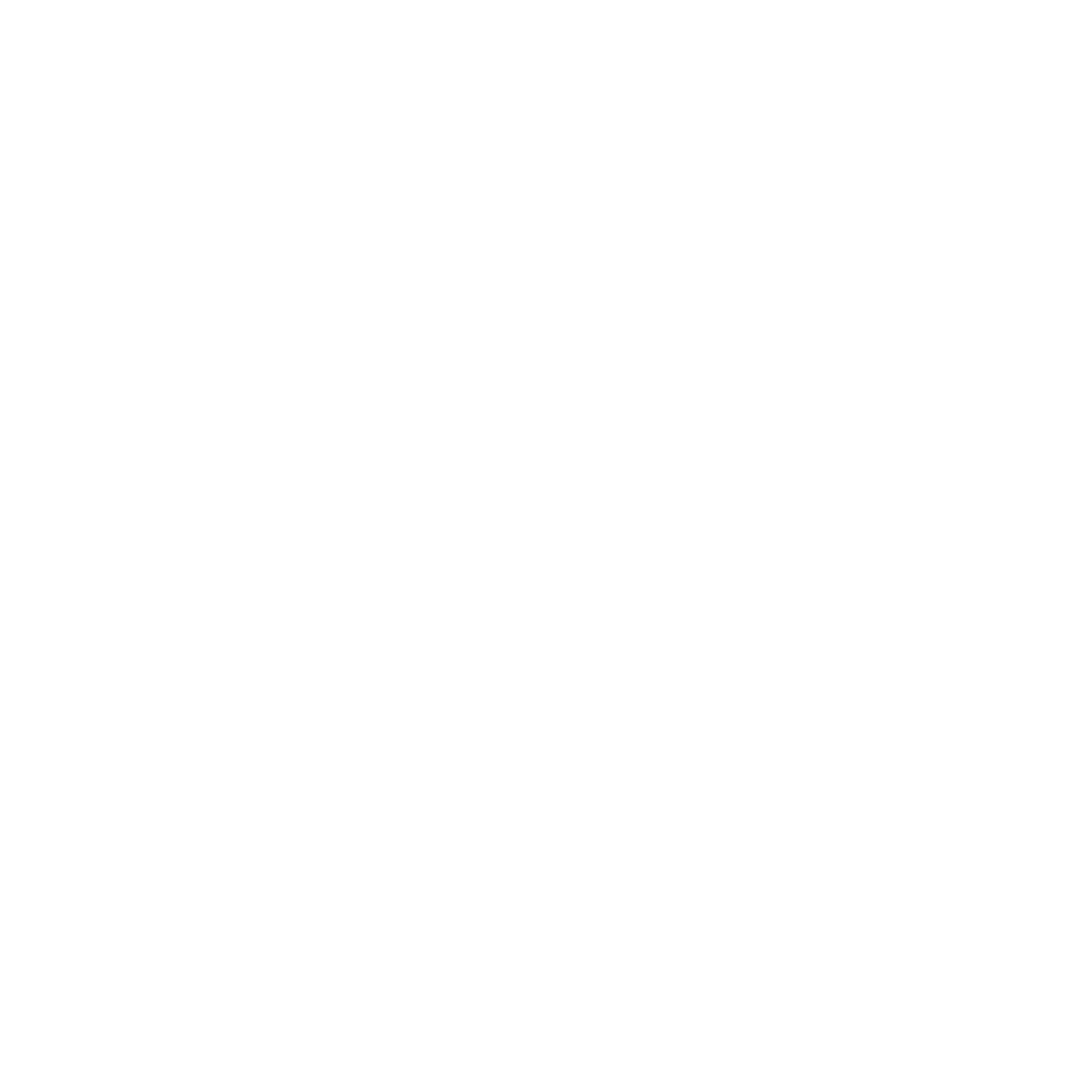
Мой прадед, Корнилов Пётр Осипович, родился в тихой и живописной деревне Подлесные Чурачики, расположенной в Комсомольском районе, в далёком 1903 году.
С началом Великой Отечественной войны Пётр ответил на призыв Родины. В апреле 1942 года он был призван к службе и отправился на фронт. Его путь лежал через суровые испытания и невзгоды, он стал частью 391 стрелкового полка, а затем продолжил службу в 176 стрелковом полку 46 стрелковой дивизии. В этом жестоком сражении он носил звание красноармейца, защищая свою страну от врага.
Пётр Осипович проявил мужество и стойкость в боях, но судьба распорядилась иначе. 15 марта 1943 года его жизнь оборвалась на поле брани. Он пал за свободу и независимость своей Родины, оставив после себя память о героизме и преданности.
Пётр Корнилов был похоронен в Ленинградской области, в старорусском районе, недалеко от деревни Ясная Поляна. Его могила утопает в зелени леса, где тихо шепчут деревья о подвигах солдат. Память о нём живёт в сердцах тех, кто помнит о героизме простых людей, ставших настоящими героями в самые трудные времена.
Мария Корнилова
С началом Великой Отечественной войны Пётр ответил на призыв Родины. В апреле 1942 года он был призван к службе и отправился на фронт. Его путь лежал через суровые испытания и невзгоды, он стал частью 391 стрелкового полка, а затем продолжил службу в 176 стрелковом полку 46 стрелковой дивизии. В этом жестоком сражении он носил звание красноармейца, защищая свою страну от врага.
Пётр Осипович проявил мужество и стойкость в боях, но судьба распорядилась иначе. 15 марта 1943 года его жизнь оборвалась на поле брани. Он пал за свободу и независимость своей Родины, оставив после себя память о героизме и преданности.
Пётр Корнилов был похоронен в Ленинградской области, в старорусском районе, недалеко от деревни Ясная Поляна. Его могила утопает в зелени леса, где тихо шепчут деревья о подвигах солдат. Память о нём живёт в сердцах тех, кто помнит о героизме простых людей, ставших настоящими героями в самые трудные времена.
Мария Корнилова
Родился 12 августа 1924 года в Чкаловской области, ныне Оренбургская область, Абдулинский район, село Старые Шалты. 29 сентебря 1942 года был принят на флот в ряды 22 оавтп ВВС ЮБФ. Учавствовал в оборен Ленинграда за что был награждён медалью. После войны вернулся на родину в село Старые Шалты и работал трактористом в колхозе.
Денис Сайфулин
Денис Сайфулин
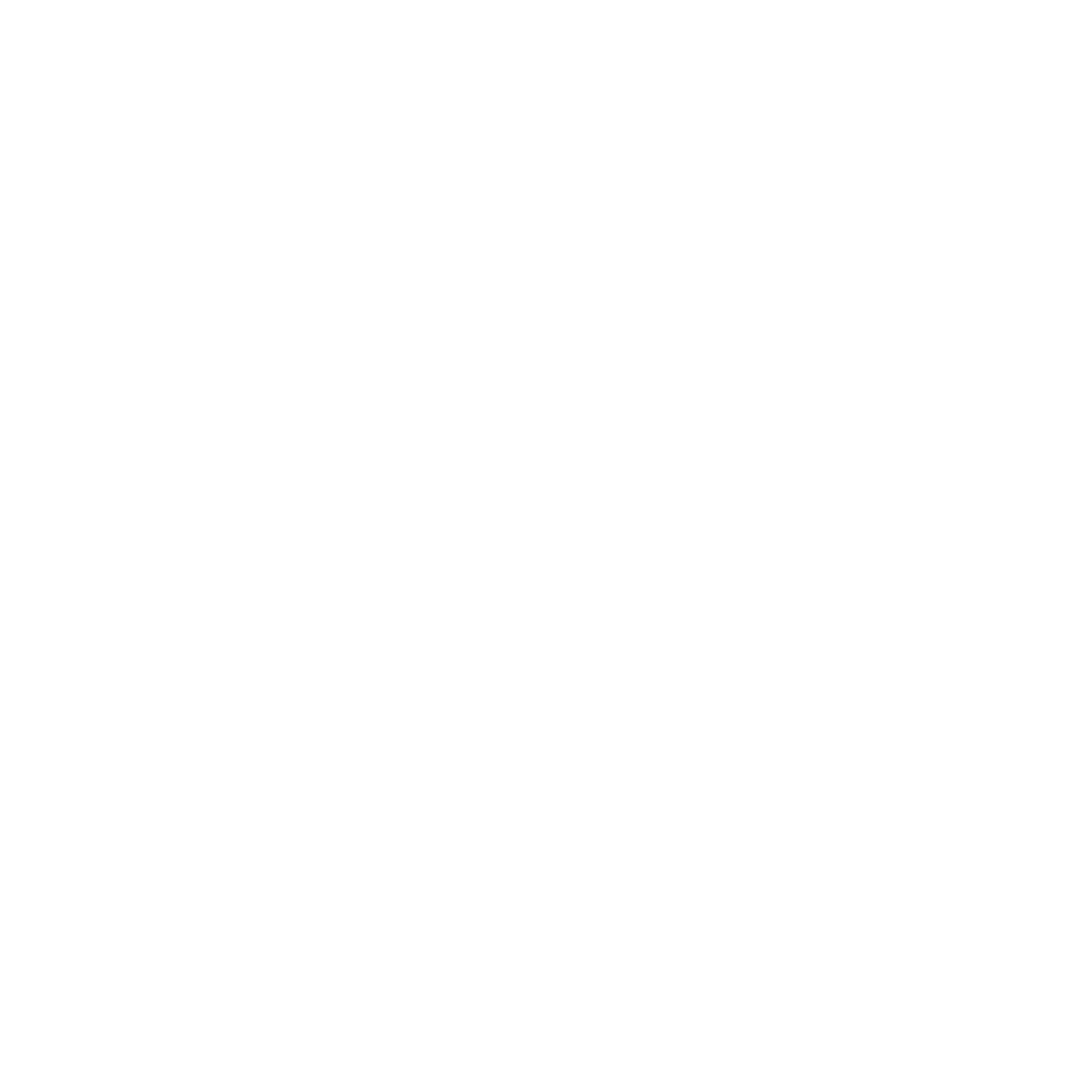
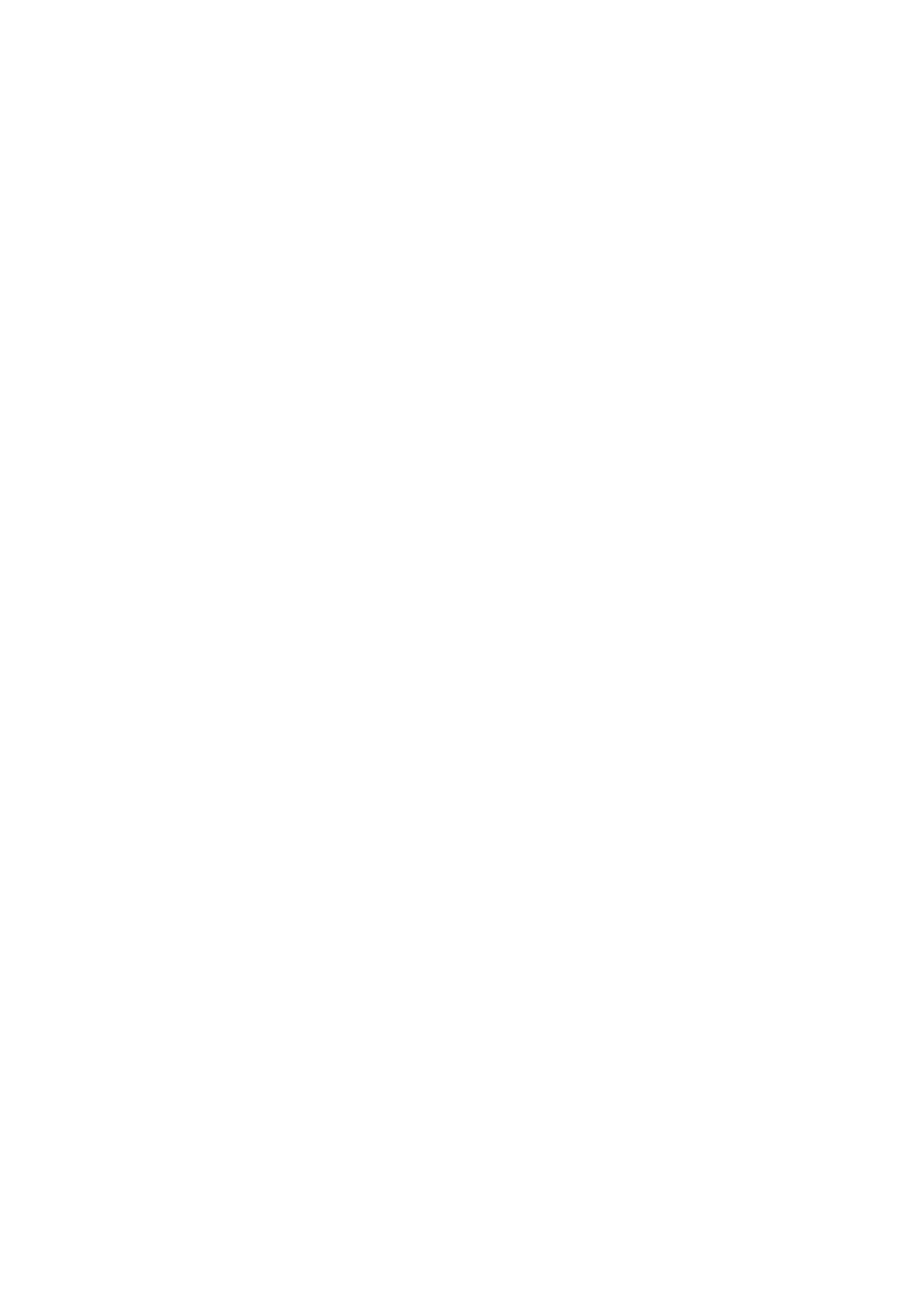
Лица Победы. Иванова Клавдия Федоровна
Рассказ ветерана войны, которая защищала Москву и принимала участие в салюте Победы в составе зенитной батареи.
«Я родилась в ноябре 1923 года. Когда началась война мне было 17 лет. В 16 лет, это было в 1940 году, я окончила Цивильское педучилище и меня направили в Ибресинский район в Хормалинскую среднюю школу. Там я работала учителем начальных классов. До войны мне жилось очень хорошо, потому что я была молодая и беззаботная.
Когда началась война, я была в отпуске в своей деревне. Пришла телеграмма, чтобы срочно вернуться на работу. В начале 42-го года меня уже забрали на войну. В то время наша страна еще была неграмотная, а на фронт нужны были образованные люди, поэтому забирали тех, у кого образование было получше, в том числе и нас, молодых девушек.
Нас нигде не обучали, а сразу отправили на войну, на зенитную батарею. Пешком мы прошли 25 км от Москвы, нас в телятнике переодели в военную форму, а потом определили жить в землянках, а вокруг — снег и никакого жилья. Позже выяснилось, что находились мы недалеко от Внуковского аэродрома.
На батарее нас было 70 с лишним человек: орудийщики-мужчины по 7 человек, приборная артиллерия, связисты, дальномерщики, разведчики, которые следили на небом и самолетами. Кроме мужчин на батарее было 30 девушек, несколько из Чувашии: Нина Ильина из Ибресинского района, Клава Хорасева из Ульяновской области, Нурзина из Чуварлей, Нина из Алатыря (...жалуется на память). Потом мы все вместе вернулись с войны.
Я работала на приборе управления зенитным артиллерийским огнем, американском. Это такой круглый планшет, с кареткой и азимутом. Мне надо было совмещать угол возвышения снаряда и взрывателя. Если я ошибалась на 1 миллиметр на планшете, в воздухе снаряд отклонялся на несколько метров, поэтому нужно было работать очень точно.
Сколько самолетов сбило наше орудие, я сказать не могу. В бою с земли не видно, чей снаряд попадает в самолет. Все небо засвечено прожекторами, в небе взрывы — не разберешь. Обычно фашистские налеты совершались ночью. Самые страшные налеты на Москву были в 42-м и 43-м годах. Как наступает 11 часов, начинается налет, по 30-50 самолетов за раз, были налеты по 100 самолетов. Было страшно, но в это время на страх не обращаешь внимания. Когда бомбы летят на землю, а надо наводить на самолеты, о себе не думаешь.
До конца войны наша батарея стояла под Москвой, потому что фашисты бомбили столицу до 45-го года, даже когда фронт ушел в Польшу и Германию. В 43-м году нам однажды передают, что на Москву идут 300 немецких самолетов, а они взяли и повернули на Горький. Тогда они разбомбили Горьковский автозавод.
На войне все было тяжело. Самое тяжелое подъем, а самое любимое слово — отбой (...смеется). Но было и хорошее. В 44 году нас, 5 девушек, награжденных значками «Отличный артиллерист», отпустили в Москву в Большой театр смотреть оперу «Иван Сусанин». Я тогда не понимала, что это такое, но было интересно.
На войне я каждый день писала домой письма, но редко получала их сама. Потому что некому было писать, отец был на войне, старший брат был на войне, а младшему было некогда — в 12 лет он пас деревенское стадо.
На войне нам было не до парней. Тем более, что у нас на батарее были одни 40-летние мужики — молодые были нужны на передовой. Они к нам как старались относились бережно, говорили: «девушек надо беречь, они продолжение нашего рода». Правда беречь не всегда удавалось. Помню в 43-м объявили заградительный огонь, это когда батарея постоянно стреляет в темное небо, потому что цели не видно. Тогда мы, девушки, таскали снаряды с ящиками. В одном ящике — 4 снаряда. А один снаряд весит 14 кг 900 граммов.
Я хорошо помню, когда объявили победу. В тот день был очень сильный дождь, наша землянка протекала, и нас определили к разведчицам — у них потолок был сделан из плащпалатки. Я сидела в наушниках и слушала радио. Когда объявили, что Германия капитулировала, я сразу бросила наушники и крикнула: «Девушки, наши победили, война закончилась».
А на следующий день, уже 10 мая, был парад, нашу батарею отправили в Москву, где был дан салют из сячи орудий. Потом мы еще несколько раз ездили на салют, наша батарея стояла около стадиона Лужники — по определенным местам ставили по 40 орудий, иначе вокруг бились стекла.
С войны я вернулась 16 августа 1945 года с медалью «За оборону Москвы», а наше место на батарее заняли другие девушки. После войны я не пошла работать учителем, а устроилась в Цивильск, начальником пожарной команды по политчасти, там же вышла замуж.
После войны было очень тяжело. Хлеба не было, сахара, круп, продуктов вообще не было. Хорошо, что помогала мама, которая жила в деревне. А когда вернулся с войны отец, начал строить дом.
После того, как у нас родился первый сын, я поняла, что в городе выжить уже не смогу и поехала в деревню к родственникам мужа. Там оказалось не лучше — хлеба нет, дров нет. Отец погиб на фронте. Невозможно рассказать, как мы строили первый домик, как жили, у них было шестеро детей, у меня уже двое. Я не знаю, как мы выжили.
Потом я уже начала работать учителем русского и чувашского языка в Богатыревской 8-летней школе Цивильского района, и все мои дети стали моими учениками.
В нашей деревне с войны не вернулось сорок мужчин, а те, кто вернулся, были с ранениями или инвалиды. Первые годы после войны День Победы не отмечали — кругом была разруха. Начали отмечать, когда жизнь стала лучше. Я помню первый раз манную крупу после войны мы увидели в 60-м году, а сахарный песок у нас на столе появился в 67-м году.
После этого каждый год День Победы стали отмечать торжественно, приглашали ветеранов, организовывали встречи со школьниками. В юбилейные годы, начиная с 20-летия Победы награждали юбилейными медалями. Давали памятные подарки, карманные часы, даже один раз дали «Командирские». Все это потом доставалось внукам и правнукам.
Сейчас уже многие ушли из жизни, в нашей деревне в живых осталась я одна. А вообще на жизнь я не жалуюсь. У меня росли дети, хорошо учились. Хоть и бедно жили, но семья была дружная.
Я каждый год жду 9 Мая. В этот день собираются дети, внуки, правнуки. Это уже не мой праздник, он наш общий, радостный праздник. Все ждут этого дня!»
Лиза Сайкина
Рассказ ветерана войны, которая защищала Москву и принимала участие в салюте Победы в составе зенитной батареи.
«Я родилась в ноябре 1923 года. Когда началась война мне было 17 лет. В 16 лет, это было в 1940 году, я окончила Цивильское педучилище и меня направили в Ибресинский район в Хормалинскую среднюю школу. Там я работала учителем начальных классов. До войны мне жилось очень хорошо, потому что я была молодая и беззаботная.
Когда началась война, я была в отпуске в своей деревне. Пришла телеграмма, чтобы срочно вернуться на работу. В начале 42-го года меня уже забрали на войну. В то время наша страна еще была неграмотная, а на фронт нужны были образованные люди, поэтому забирали тех, у кого образование было получше, в том числе и нас, молодых девушек.
Нас нигде не обучали, а сразу отправили на войну, на зенитную батарею. Пешком мы прошли 25 км от Москвы, нас в телятнике переодели в военную форму, а потом определили жить в землянках, а вокруг — снег и никакого жилья. Позже выяснилось, что находились мы недалеко от Внуковского аэродрома.
На батарее нас было 70 с лишним человек: орудийщики-мужчины по 7 человек, приборная артиллерия, связисты, дальномерщики, разведчики, которые следили на небом и самолетами. Кроме мужчин на батарее было 30 девушек, несколько из Чувашии: Нина Ильина из Ибресинского района, Клава Хорасева из Ульяновской области, Нурзина из Чуварлей, Нина из Алатыря (...жалуется на память). Потом мы все вместе вернулись с войны.
Я работала на приборе управления зенитным артиллерийским огнем, американском. Это такой круглый планшет, с кареткой и азимутом. Мне надо было совмещать угол возвышения снаряда и взрывателя. Если я ошибалась на 1 миллиметр на планшете, в воздухе снаряд отклонялся на несколько метров, поэтому нужно было работать очень точно.
Сколько самолетов сбило наше орудие, я сказать не могу. В бою с земли не видно, чей снаряд попадает в самолет. Все небо засвечено прожекторами, в небе взрывы — не разберешь. Обычно фашистские налеты совершались ночью. Самые страшные налеты на Москву были в 42-м и 43-м годах. Как наступает 11 часов, начинается налет, по 30-50 самолетов за раз, были налеты по 100 самолетов. Было страшно, но в это время на страх не обращаешь внимания. Когда бомбы летят на землю, а надо наводить на самолеты, о себе не думаешь.
До конца войны наша батарея стояла под Москвой, потому что фашисты бомбили столицу до 45-го года, даже когда фронт ушел в Польшу и Германию. В 43-м году нам однажды передают, что на Москву идут 300 немецких самолетов, а они взяли и повернули на Горький. Тогда они разбомбили Горьковский автозавод.
На войне все было тяжело. Самое тяжелое подъем, а самое любимое слово — отбой (...смеется). Но было и хорошее. В 44 году нас, 5 девушек, награжденных значками «Отличный артиллерист», отпустили в Москву в Большой театр смотреть оперу «Иван Сусанин». Я тогда не понимала, что это такое, но было интересно.
На войне я каждый день писала домой письма, но редко получала их сама. Потому что некому было писать, отец был на войне, старший брат был на войне, а младшему было некогда — в 12 лет он пас деревенское стадо.
На войне нам было не до парней. Тем более, что у нас на батарее были одни 40-летние мужики — молодые были нужны на передовой. Они к нам как старались относились бережно, говорили: «девушек надо беречь, они продолжение нашего рода». Правда беречь не всегда удавалось. Помню в 43-м объявили заградительный огонь, это когда батарея постоянно стреляет в темное небо, потому что цели не видно. Тогда мы, девушки, таскали снаряды с ящиками. В одном ящике — 4 снаряда. А один снаряд весит 14 кг 900 граммов.
Я хорошо помню, когда объявили победу. В тот день был очень сильный дождь, наша землянка протекала, и нас определили к разведчицам — у них потолок был сделан из плащпалатки. Я сидела в наушниках и слушала радио. Когда объявили, что Германия капитулировала, я сразу бросила наушники и крикнула: «Девушки, наши победили, война закончилась».
А на следующий день, уже 10 мая, был парад, нашу батарею отправили в Москву, где был дан салют из сячи орудий. Потом мы еще несколько раз ездили на салют, наша батарея стояла около стадиона Лужники — по определенным местам ставили по 40 орудий, иначе вокруг бились стекла.
С войны я вернулась 16 августа 1945 года с медалью «За оборону Москвы», а наше место на батарее заняли другие девушки. После войны я не пошла работать учителем, а устроилась в Цивильск, начальником пожарной команды по политчасти, там же вышла замуж.
После войны было очень тяжело. Хлеба не было, сахара, круп, продуктов вообще не было. Хорошо, что помогала мама, которая жила в деревне. А когда вернулся с войны отец, начал строить дом.
После того, как у нас родился первый сын, я поняла, что в городе выжить уже не смогу и поехала в деревню к родственникам мужа. Там оказалось не лучше — хлеба нет, дров нет. Отец погиб на фронте. Невозможно рассказать, как мы строили первый домик, как жили, у них было шестеро детей, у меня уже двое. Я не знаю, как мы выжили.
Потом я уже начала работать учителем русского и чувашского языка в Богатыревской 8-летней школе Цивильского района, и все мои дети стали моими учениками.
В нашей деревне с войны не вернулось сорок мужчин, а те, кто вернулся, были с ранениями или инвалиды. Первые годы после войны День Победы не отмечали — кругом была разруха. Начали отмечать, когда жизнь стала лучше. Я помню первый раз манную крупу после войны мы увидели в 60-м году, а сахарный песок у нас на столе появился в 67-м году.
После этого каждый год День Победы стали отмечать торжественно, приглашали ветеранов, организовывали встречи со школьниками. В юбилейные годы, начиная с 20-летия Победы награждали юбилейными медалями. Давали памятные подарки, карманные часы, даже один раз дали «Командирские». Все это потом доставалось внукам и правнукам.
Сейчас уже многие ушли из жизни, в нашей деревне в живых осталась я одна. А вообще на жизнь я не жалуюсь. У меня росли дети, хорошо учились. Хоть и бедно жили, но семья была дружная.
Я каждый год жду 9 Мая. В этот день собираются дети, внуки, правнуки. Это уже не мой праздник, он наш общий, радостный праздник. Все ждут этого дня!»
Лиза Сайкина
Мой прадедушка родился 4 января 1924 года в деревне Кошки-Кулинеево Яльчиковского района Чувашской АССР. В сентябре 1942 года, когда ему только исполнилось 18 лет, он был призван на фронт Яльчиковским районным военкоматом.
Воевал рядовым стрелком в составе 909-го стрелкового полка. Участвовал в боях на Брянском направлении, освобождал Смоленск. В составе 153-й стрелковой дивизии прошел через тяжелые осенне-зимние бои 1942 года.
28 февраля 1943 года получил серьезное пулевое ранение в ногу. После длительного лечения в госпитале был комиссован по ранению.
В 1985 году, к 40-летию Великой Победы, мой прадедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени за свой боевой путь.
После войны вернулся в родную деревню, где жил и работал. Вместе со своей супругой Клавдией Александровной воспитал 4 детей.
В каждой семье есть свой герой и мы обязаны их помнить, чтить их память
Ярослав Яковлев
Воевал рядовым стрелком в составе 909-го стрелкового полка. Участвовал в боях на Брянском направлении, освобождал Смоленск. В составе 153-й стрелковой дивизии прошел через тяжелые осенне-зимние бои 1942 года.
28 февраля 1943 года получил серьезное пулевое ранение в ногу. После длительного лечения в госпитале был комиссован по ранению.
В 1985 году, к 40-летию Великой Победы, мой прадедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени за свой боевой путь.
После войны вернулся в родную деревню, где жил и работал. Вместе со своей супругой Клавдией Александровной воспитал 4 детей.
В каждой семье есть свой герой и мы обязаны их помнить, чтить их память
Ярослав Яковлев
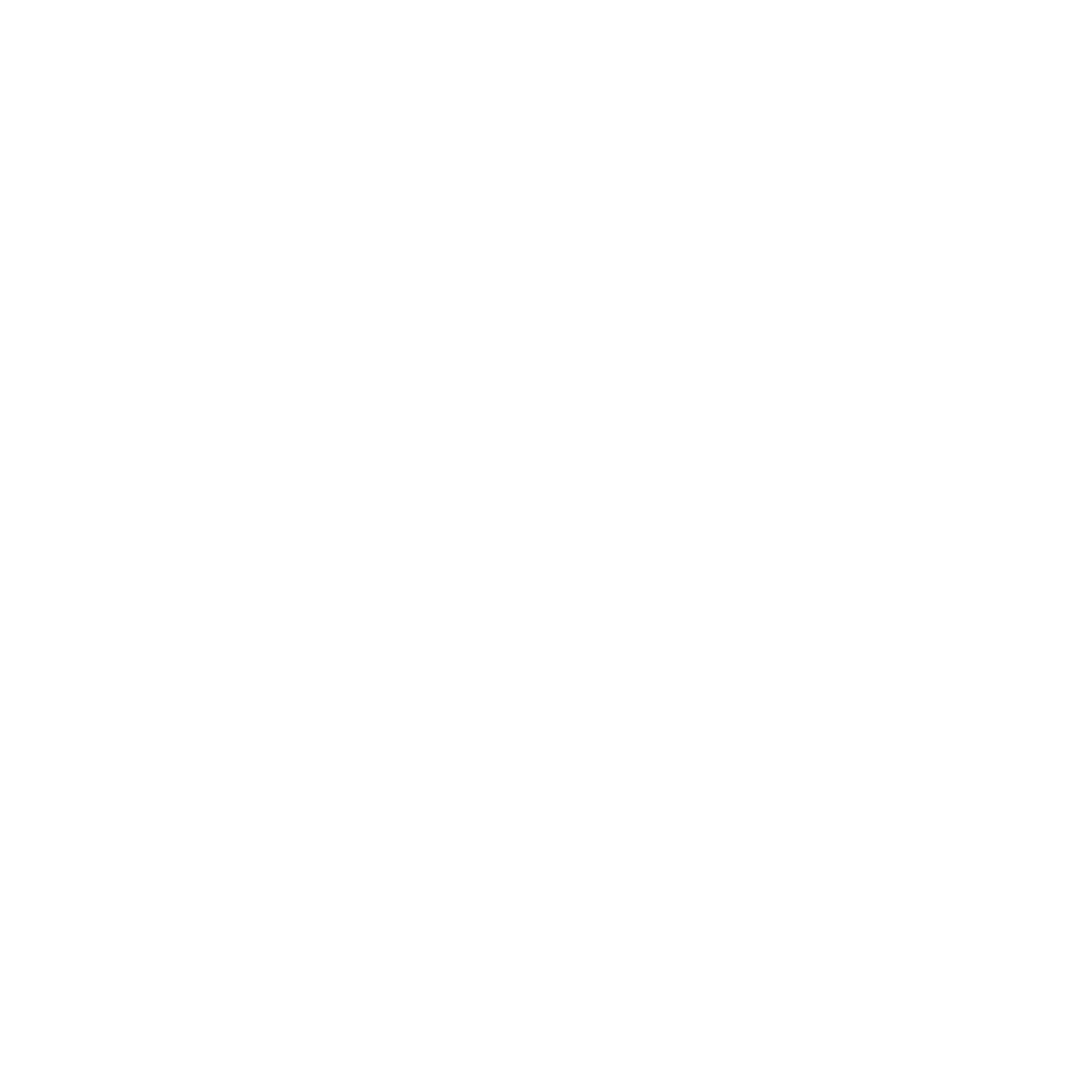
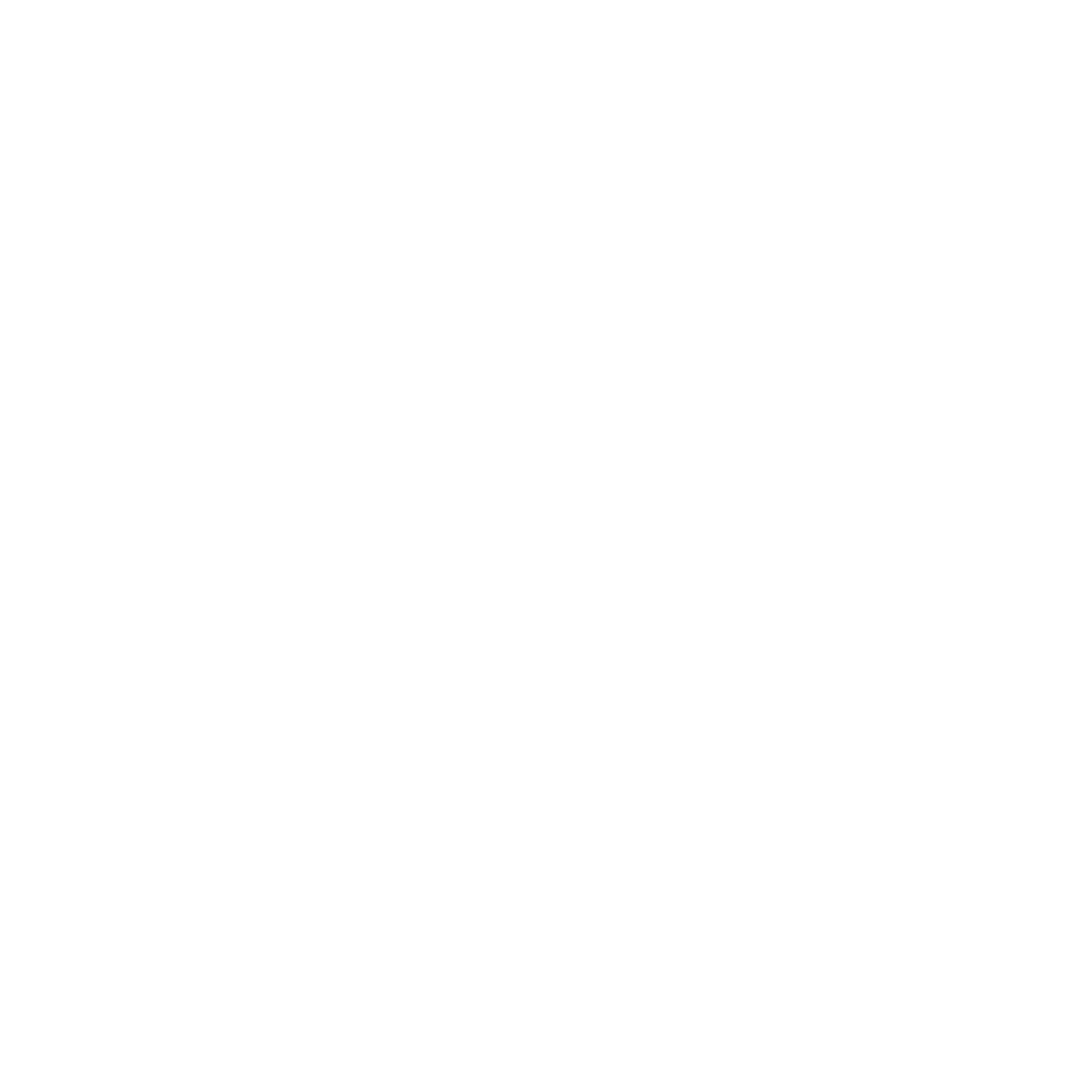
Мой прадедушка Герасимов Григорий Андреевич родился 30 сентября 1925 года в Чувашской АССР, Октябрьском районе, селе Покровское, в семье крестьян. Будучи восемнадцатилетним парнем, он ушёл на войну, где был зачислен в 1519 корпусной артиллерийский полк. С Чебоксар Григория Андреевича отправили на Украину, где начался его боевой путь до Берлина. По рассказам моих родственников, прадед был сильным и мужественным человеком, к тому же очень скромным и не любил хвастаться своими наградами. У него было много орденов, так же есть медаль «За отвагу». С войны Григорий Андреевич вернулся в звании сержанта, в должности старшего разведчика батареи. В 1985 году был награждён Орденом Отечественной войны II степени.
К сожалению, уже много лет прадеда нет в живых, но наша семья помнит и гордится им.
Катя Маймасова
К сожалению, уже много лет прадеда нет в живых, но наша семья помнит и гордится им.
Катя Маймасова


